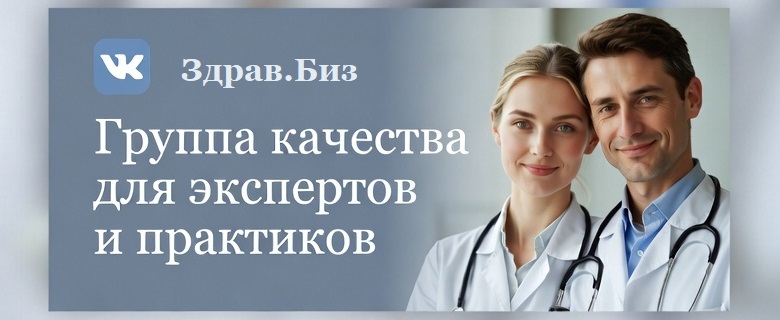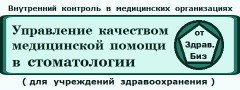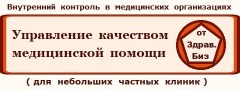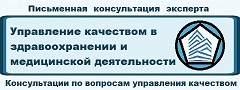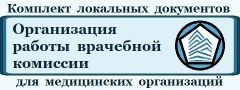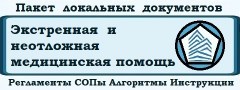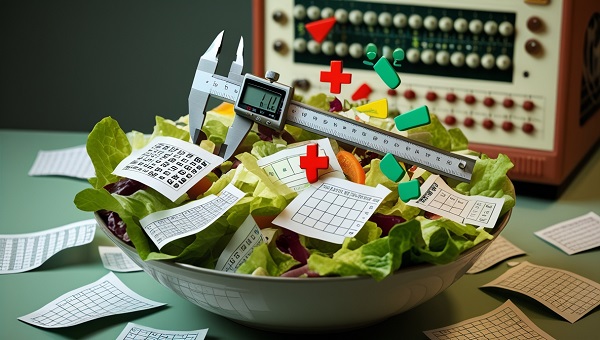Бывает, упорствует кто в алогичных построениях, и не слышит, не желает слышать никаких возражений. На все попытки вразумления он отвечает свысока, используя все имеющиеся свои преимущества, такие как авторитет, официальный статус, регалии, полномочия и т.п. Сопротивление оппонентов он преодолевает агрессией, которая может принимать различные формы, а когда и хитростью, применяя любопытные манипуляции и «многоходовки».
Например, встречается рабочая модель продвижения и закрепления подмен понятий путём информационной перегрузки оппонентов. Перегрузка достигается за счёт умножения подложных аргументов числом и объёмом изложения. Чем мощнее бьёт фонтан нагруженной цифрами и прочими «доказательствами» убедительной говорильни, тем быстрее и надёжнее достигается эффект переполнения оппонирующей системы. Неперевариваемый объём словесной продукции быстро исчерпывает аналитические возможности критиков и истощает их волю к сопротивлению, что облегчает задачу. И в дальнейшем, уже не отвлекаясь на замечания, можно сколько угодно воспроизводить ложные выводы и использовать их в качестве базиса для любых построений.
Правда, неискушённому в подобных методах стороннему наблюдателю бывает трудно понять, зачем уже совершённым намерениям вообще понадобилось какое-либо обсуждение. К чему устраивать шумиху, если её итог предрешён?
Недоумение именно такого рода вызывает очередной проект приказа Минздрава «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» ID 02/08/02-25/00154682[1] (далее – проект). И хотя заявленная длительность публичного обсуждения составила всего 5 рабочих дней, с 15 по 20 февраля сего года, шуму проект успел наделать изрядно. На проект бурно отреагировали активные представители юридического и страхового сообществ. Обсуждался он и в медицинской среде.
Отзывы прозвучали преимущественно негативного характера, различной степени сдержанности. Правда, акценты критики естественно зависимы от рода деятельности и интересов критикующего. Юристы отмечают повисшие в воздухе с исчезновением раздела «критериев оценки качества по условиям оказания медицинской помощи» требования к ведению больных и оформлению медицинской документации. Страховщики беспокоятся по поводу ускользающих оснований для применения к медицинским организациям финансовых санкций, старательно прикрывая свой жгучий интерес традиционным бормотанием о правах застрахованных. Ну а медики твердят, что исполнение предложенных «критериев» вовсе не равно качеству медицинской помощи. Эксперты-медики к их здравым мыслям ещё и добавляют, что к контролю соблюдения таких «критериев» категорически нельзя сводить экспертизу качества медицинской помощи (далее – ЭКМП)[2,3].
На момент написания этих строк я не располагаю достаточной информацией о дальнейшей судьбе проекта. Признаться, наученный собственным опытом анализа прежних проектов от Минздрава в этой области и знакомый с критическими отзывами на обсуждаемый проект, я ожидал появления его альтернативных версий, и не дождался. Возможно, настоящая публикация в результате припозднилась в выходе, и новый приказ с «критериями» её опередит.
В то же время, нет никаких гарантий, что в феврале мимолётно публично обсуждалась та же версия проекта, что в то же самое время согласовывалась в различных инстанциях и планировалась к утверждению. История аналогичного приказа 2016 года за номером 520н, появление которого предваряла серия проектов-обманок, показала, что такое вполне возможно[4,5].
Что касается публичной версии проекта, то вкратце я могу охарактеризовать её следующим образом. От действующего с 2017 года приказа № 203н[6], планируемого к замещению, документ отличается двумя существенными моментами.
Первый – принципиальный: в проекте, как выше уже было отмечено, напрочь отсутствуют «критерии оценки качества по условиям оказания медицинской помощи», коих пока (покуда действует приказ 203н) имеется два набора – для оценки качества амбулаторной и стационарной медицинской помощи (далее – видовые критерии). Это значит, что оценка и контроль соблюдения требований, ныне охватываемых вторым разделом действующего приказа, исключаются из ЭКМП. Как следствие, повисает в воздухе и весь опирающийся на результаты ЭКМП контроль качества медицинской помощи (далее – ККМП). Соответственно, управление качеством медицинской помощи теряет и свою объективную базу, и свой основной инструмент.
Второй будто бы технический. Набор «критериев оценки качества по группам заболеваний (состояний)» (далее – нозологические критерии) проектом приводится в соответствие с номенклатурой и содержанием утверждённых к настоящему времени в установленном порядке клинических рекомендаций. Всего лишь. Однако имеются основания считать и этот момент также принципиальным.
Во-первых, мы видим в этом разделе проекта без преувеличения гигантский объём табличной продукции. За ним скрывается (подразумевается) колоссальное количество труда разработчиков, явно постаравшихся сохранить в формулировках вариабельность, присущую клиническим рекомендациям и категорически необходимую в клинической практике.
Во-вторых, мы до сих пор не знаем доподлинно, как именно разрабатывались критерии третьего раздела действующего приказа, как и всех его предшественников[7,8], не говоря уже обо всех пролетавших мимо проектах. Там было много странностей, которые раз за разом воспроизводились в бесчисленных вариациях, из-за чего к их анализу приходилось вновь и вновь возвращаться[9-14]. Новые же нозологические критерии явно сформированы на основе клинических рекомендаций, как то и предусмотрено Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[15] (далее – Закон) в ч.2 ст.64. Безусловно, такие различия носят принципиальный характер.
На основании изложенных выше обстоятельств можно предположить два вероятных сценария дальнейшей судьбы проекта.
Первый сценарий. Минздрав утвердит «критерии» в максимально приближённом к проекту виде.
Развития событий по такому сценарию следует ожидать в том случае, если отраслевой регулятор намерен ограничить оценку качества медицинской помощи оценкой соблюдения отдельных – важнейших, по его мнению, положений (тезисов) клинических рекомендаций.
Возможно, отказываясь от видовых критериев, ведомство вынашивает планы все требования к ведению больных подгрести под контроль качества и безопасности медицинской деятельности. В этой области качество означает правильное действие (выполнение стандарта), а значит, лучше поддаётся измерению, контролю и управлению, и регулятор чувствует себя здесь более уверенно[16-18].
Такой сценарий разрывает сложившееся понятие качества медицинской помощи, оставляя от него лишь один, пусть и большой, изодранный клочок, и разрушает до основания все существующие институты управления качеством.
В пользу первого сценария выступает сохранение нормы Закона, согласно которой «Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций и утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти». Т.е., нозологический подход к «критериям» законодательно закреплён.
Подтверждая принятие этой нормы, Минздрав воспроизводит её, например, в свежайшей версии проекта нового порядка проведения ЭКМП в рамках государственного и ведомственного контроля. 26 марта она была разослана Минздравом в соответствующие инстанции и в прошлую пятницу появилась на сайте Союза медицинских работников Чувашской Республики[19]. Версия, размещённая в феврале на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов[20], к этой норме Закона лишь отсылает, аналогично действующему с 2017 года порядку[21].
Никаких иных критериев оценки качества медицинской помощи Законом не предусмотрено. В то же время, Закон указывает, что сами критерии должны отражать положения не только клинических рекомендаций, но и порядков оказания медицинской помощи, чего в «чисто нозологическом» варианте практически нереально добиться. Точнее, добиться можно, но только истратив на это все имеющиеся ресурсы здравоохранения. Но и результат будет просто невероятным – в каждую нозологическую табличку критериев придётся погрузить целиком требования соответствующего порядка оказания медицинской помощи применительно к той и или иной нозологии. Отрасль гарантированно погибнет в идеальном бюрократическом потопе.
Отсюда вывод: первый сценарий ведёт в тупик.
Второй сценарий. Минздрав прислушается к критике и восстановит раздел с видовыми критериями в том или ином виде.
Это разумно, поскольку без внимания к сбору анамнеза, общему и местному осмотру, ведению больного на всех этапах оказания медицинской помощи, оформлению медицинской документации и т.д. говорить о качестве медицинской помощи применительно к случаю её оказания не приходится. Соответственно, нет и объективной основы для управления качеством.
Так что, если не отказывать высшему отраслевому руководству в здравомыслии, воспроизведение этого раздела в новом приказе вполне возможно – конечно, лучше бы ещё и с некоторыми улучшениями (устранение дублирования и т.п.). Такой сценарий позволит сохранить базовые принципы и институты управления качеством. С другой стороны, он законсервирует их со всеми накопившимися к настоящему времени пороками[22-24].
В пользу второго сценария выступают различия между январской[25а] и мартовской[25б] версиями другого проекта – приказа «Об утверждении порядка применений клинических рекомендаций». В мартовской версии, в отличие от январской, использование клинических рекомендаций при проведении ЭКМП и ККМП уже не исключается. На этом основании можно осторожно предположить, что регулятор имеет намерение сохранить информационную базу для применения видовых критериев (которые, как прояснено выше, Законом не предусмотрены).
Кроме того, планируемые к утверждению критерии по-прежнему «не выступают предметом федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности». Данное уточнение буквально означает, что у качества медицинской помощи сохраняется своя особая область, отличная от области качества и безопасности медицинской деятельности, хотя и пересекающаяся с нею. Однако, сохраняя эту область, регулятор приходит к необходимости преодолеть ограниченность «чисто нозологического» подхода при формировании критериев оценки качества медицинской помощи, что не предусмотрено Законом.
Отсюда вывод: и второй сценарий ведёт в тупик.
Неудивительно, в этой связи, противоречивое впечатление, которое производят проекты отраслевых документов в обсуждаемой теме. Минздрав будто мечется между неудовлетворёнными управленческими потребностями в области качества и несовершенством законодательства в сфере здравоохранения, которое отчасти сам и породил. Устранить такие противоречия на уровне подзаконных нормативных правовых актов невозможно, поэтому на хорошие решения вышеописанных проблем рассчитывать не стоит. Самое большее, на что можно надеяться, это приемлемые регламентирующие документы, хотя бы не добавляющие новых трудностей и противоречий.
Посмотрим, по какому пути пойдёт регулятор на этот раз. Кстати, кое-что в «критериях» он мог бы исправить и независимо от очевидно трудного для него выбора. Например, структуру нозологических критериев. Имеется в виду, конечно, не состав нозологических табличек с критериями – он зависит от номенклатуры клинических рекомендаций, а структура самих этих табличек. Её можно было бы кардинально улучшить, приведя в соответствие с управленческими потребностями в области качества и здравым смыслом, а заодно и с Законом – конкретно, с понятием качества медицинской помощи, прямо и недвусмысленно указанном в п.21 ч.1 ст.2.
Хорошо, пусть в соответствии ч.2 ст.64 Закона в действующей редакции регулятор стеснён, сейчас он может и должен формировать лишь нозологические критерии. Но это не означает, что эти самые нозологические критерии могут ограничиваться лишь оценкой соблюдения отдельных позиций клинических рекомендаций, оставляя без внимания собственно качество медицинской помощи, в том смысле, который заложен в это понятие Законом. А ведь в проекте воплощается именно такая их неполноценность.
Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора [и применения] методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата (выделенного в скобках, по мнению автора, явно не хватает в формулировке п.21 ч.1 ст.2 Закона)[12,26].
Нозологические критерии в проекте, как и в действующем приказе, не позволяют выразить указанную совокупность характеристик. Для того, чтобы это стало возможным, необходимо сгруппировать каждый набор нозологических критериев по отношению к профилактике, диагностике, лечению и реабилитации, а также результату оказания медицинской помощи. Такой подход, во-первых, позволяет выражать определённые Законом характеристики качества медицинской помощи именно в их совокупности. А во-вторых, открывает возможность экспертной оценки качества медицинской помощи в случаях, для которых нет утверждённых нозологических критериев. Указанное решение было подробно изложено автором ещё в 2017 году[27-29]. Минздраву по силам его воспроизвести.
Мне хотелось бы прояснить ещё один аспект, прежде чем завершить настоящую публикацию. Безусловно, «критерии оценки качества медицинской помощи» должны формироваться на основе клинических рекомендаций, данная норма Закона оправдана на все сто. Однако о том, что «критерии» должны присутствовать в самих клинических рекомендаций, в Законе ничего нет.
Как гласит п.23 ч.1 ст.2 Закона, «клинические рекомендации – документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи».
Требование погружения «критериев» непосредственно в клинические рекомендации – это уже подзаконное творчество регулятора[30]. Так он перекладывает предусмотренную Законом задачу формирования «критериев» на медицинские профессиональные некоммерческие организации. В их участии в такой работе ничего плохого, конечно же, нет, однако модель такого участия вполне могла бы обойтись без лишних «обязательных» элементов структуры клинических рекомендаций.
Применение клинических рекомендаций сильно влияет на качество медицинской помощи, однако это влияние опосредовано врачебной (и, соответственно, экспертной) интерпретацией содержания этих документов в конкретных клинических ситуациях. Вопрос целесообразности медицинского вмешательства всегда неоднозначен, а его выполнение становится обязательным при соблюдении множества различных условий, которые не могут быть описаны в каких-либо однозначных «критериях»[31-33].
Включение «критериев» в клинические рекомендации не столь безобидно, как может показаться людям, не обладающим специальными знаниями и клиническим опытом. Находится немало охотников применять их для оценки «качества медицинской помощи» напрямую, несмотря на то, что по Закону клинические рекомендации не являются нормативными правовыми актами. Минздрав вынужден всё чаще напоминать об этом – пока, правда, лишь в виде публичных высказываний на различных мероприятиях, да в письмах[34]. Правовой статус писем и докладов не позволяет полностью исключить подобную практику, поэтому ведомство намерено пресечь её непосредственно в порядке применения клинических рекомендаций, проект которого выше уже приводился[25].
Т.о., Минздраву приходится бороться с последствиями собственного решения о включении «критериев» в клинические рекомендации, в чём он проявляет завидное упорство. Оно тем более странно, что «критериями оценки качества медицинской помощи» их трудно назвать. Скорее, это важнейшие, по мнению разработчиков, тезисы-рекомендации в компактном изложении. Присовокупление к ним дихотомической оценки выполнения «да/нет» не превращает их в критерии оценки качества медицинской помощи. Разве, в индикаторы исполнения отдельных, пусть и признанных важнейшими на основе консенсуса, тезисов-рекомендаций.
В бесконечной борьбе с охотниками прямого применения этих «критериев» для оценки «качества медицинской помощи», однако, нет никакой необходимости. Достаточно переименовать этот раздел клинических рекомендаций во что-то более адекватное его содержанию, да выбросить столбец «да-нетов» из табличек. То и другое можно легко осуществить путём внесения небольших изменений в один ведомственный приказ[30]. Правда, процесс исправления самих клинических рекомендаций растянется на три года, столько составляет их жизненный цикл.
Что касается нового наименования раздела, то оно, по мнению автора, должно отражать его суть, а она заключается в следующем. Этот раздел содержит свод лаконично сформулированных тезисов-рекомендаций, включённых в документ и признанных важнейшими на основе консенсуса специалистов, участвовавших в разработке данных клинических рекомендаций. Он может быть полезен не только для формирования утверждаемых Минздравом критериев оценки качества медицинской помощи, но и служить основой для типовых и локальных протоколов ведения больных.
Такой поворот тем более оправдан, что наличие протоколов ведения (протоколов лечения) пациента, в отличие от «критериев оценки качества медицинской помощи», в клинических рекомендациях предусмотрено Законом. Тема «протоколов», однако, весьма непроста и заслуживает отдельного рассмотрения.
Использованные материалы:
- Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» от 15 февраля 2025 года ID 02/08/02-25/00154682.
- Князев Е.Г., Таевский А.Б. Экспертиза качества медицинской помощи: принципы и технологические решения// Заместитель главного врача. – 2016. – №3(118). – С.38-48.
- Таевский А.Б. «Технология экспертизы качества медицинской помощи по федеральным критериям». – Здрав.Биз, 119.
- Таевский А.Б. «Каша стройными рядами, или проект федеральных критериев оценки качества – 2016». – Здрав.Биз, 151.
- Таевский А.Б. «Явление федеральных критериев оценки качества – 2016». – Здрав.Биз, 155.
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» (Зарегистрирован 17.05.2017 № 46740).
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 422ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» (Зарегистрирован 13.08.2015 № 38494) (утратил силу).
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 года № 520н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» (Зарегистрирован 08.08.2016 № 43170) (утратил силу).
- Таевский А.Б. «Хаотическая концепция качества». – Здрав.Биз, 33.
- Таевский А.Б. «О федеральных "критериях оценки качества". Ласково». – Здрав.Биз, 103.
- Таевский А.Б. «Звонок-3, или новый проект федеральных критериев оценки качества». – Здрав.Биз, 186.
- Таевский А.Б. «Проект безумного качества». – Здрав.Биз, 192.
- Васильев В.В. «Публикация "Проект безумного качества": мнение инфекциониста». – ЗдравЭкспертРесурс, 114.
- Таевский А.Б. «Груз качества 200 и 3 "нэ"». – Здрав.Биз, 194.
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Таевский А.Б. «Фокусы качества. Качество медицинской помощи». – Здрав.Биз, 315.
- Таевский А.Б. «Фокусы качества. Качество медицинской деятельности». – Здрав.Биз, 317.
- Таевский А.Б. «Фокусы качества. Качество здравоохранения». – Здрав.Биз, 318.
- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании», размещён 28 марта 2025 года на оф.сайте Союза медицинских работников Чувашской Республики.
- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании», размещён 14 февраля 2025 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 мая 2017 года № 226н «Об утверждении Порядка осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС».
- Таевский А.Б. «Качество медицинской помощи – всё? Часть первая. Предпосылки». – Здрав.Биз, 323.
- Таевский А.Б. «Качество медицинской помощи – всё? Часть вторая. Институциональная». – Здрав.Биз, 324.
- Таевский А.Б. «Качество медицинской помощи – всё? Часть третья. Контрольная». – Здрав.Биз, 325.
- Проекты приказов Минздрава России:
а) «Об утверждении порядка применений клинических рекомендаций», версия, размещённая 16 января 2025 года на сайте Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»;
б) «Об утверждении порядка применений клинических рекомендаций», версия, размещённая 19 марта 2025 года на сайте Союза медицинских работников Чувашской Республики. - Таевский А.Б. «Приключения законопроекта о клинических рекомендациях – 2018 в Государственной Думе. Сезон 1. Эпизод 2. Взбудораженная трансцендентность». – Здрав.Биз, 233.
- Таевский А.Б. «Решения проблем организации внутреннего контроля по приказу Минздрава № 203н. Проблема №1: бессистемность оценочных критериев». – Здрав.Биз, 200.
- Таевский А.Б. «Решения проблем организации внутреннего контроля по приказу Минздрава № 203н. Проблема №2: фрагментарность оценочных критериев». – Здрав.Биз, 202.
- Таевский А.Б. «Решения проблем организации внутреннего контроля по приказу Минздрава № 203н. Проблема №3: точечность охвата клинических ситуаций». – Здрав.Биз, 204.
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 103н «Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации» (Зарегистрирован 08.05.2019 № 54588).
- Таевский А.Б. «Камень обязательного преткновения. Вновь о клинических рекомендациях». – ЗдравЭкспертРесурс, 189.
- Таевский А.Б. «Камень обязательного преткновения. Положенное против показанного». – ЗдравЭкспертРесурс, 190.
- Таевский А.Б. «Камень обязательного преткновения. Качество по рекомендациям». – ЗдравЭкспертРесурс, 191.
- Письмо Минздрава России от 21 января 2025 года № 17-1/3003770-2772 (о применении клинических рекомендаций).
Для цитирования:
Таевский А.Б. Салат из свежих критериев с кодами под оценочным соусом. – Здрав.Биз, 335. https://zdrav.biz/index.php/menagement-kachestva-med-pomoschi/strategisheskie-voprosy-upravleniya-kachestvom/335-salat-kriteriev-med-kachestva.
Всегда ваш, Андрей Таевский.
Обсудить в Телеграм
Обсудить вКонтакте
Каталог решений Здрав.Биз.